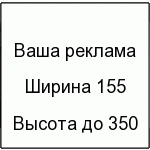|
|
Гришка Отрепьев - не Лжедмитрий!
Гришка Отрепьев - не Лжедмитрий! 
Непоколебимая уверенность, с какой все историки советского времени отождествили Григория Отрепьева с так называемым Лжедмитрием (в дореволюционной историографии его обыкновенно именовали названый Дмитрий), является для меня загадкой. У российских дореволюционных историков подобной уверенности не было, а многие из них были убеждены совсем в обратном, однако открыто высказать свое мнение им зачастую мешала цензура.
Весьма характерна позиция, занятая в этом вопросе историком XVIII века Г.Миллером. В своих печатных трудах он придерживался официальной версии о личности Лжедмитрия, но это не было его истинным убеждением. Автор «Путевых записок» англичанин Уильям Кокс, посетивший Миллера в Москве, передает следующие его слова:
- Я не могу высказать печатно мое настоящее мнение в России, так как тут замешана религия. Если вы прочтете внимательно мою статью, то вероятно заметите, что приведенные мною доводы в пользу обмана слабы и неубедительны.
Сказав это, он добавил, улыбаясь:
- Когда вы будете писать об этом, то опровергайте меня смело, но не упоминайте о моей исповеди, пока я жив.
В пояснение сказанного Миллер передал Коксу свой разговор с Екатериной II, состоявшийся в один из ее приездов в Москву. Императрица, видимо уставшая от новоявленных Петров III и княжон Таракановых, интересовалась феноменом самозванства и, в частности, спросила Миллера:
- Я слышала, вы сомневаетесь в том, что Гришка был обманщик. Скажите мне смело ваше мнение.
Миллер поначалу почтительно уклонился от прямого ответа, но, уступив настоятельным просьбам, сказал:
- Вашему величеству хорошо известно, что тело истинного Дмитрия покоится в Михайловском соборе; ему поклоняются и его мощи творят чудеса. Что станется с мощами, если будет доказано, что Гришка – настоящий Дмитрий?
- Вы правы, - улыбнулась Екатерина, - но я желаю знать, каково было бы ваше мнение, если бы вовсе не существовало мощей.
Однако большего ей добиться от Миллера не удалось.
В общем, Миллера можно понять. Что стало бы с ним, заезжим лютеранином, посмей он посягнуть – пускай и во имя научной истины, пускай и в царстве просвещенной Фелицы – на чужие святыни!
В XIX веке историки выказали больше смелости. Большинство наиболее видных представителей исторической науки – Н.И.Костомаров, С.Ф.Платонов, Н.М.Павлов, С.М.Соловьев, К.Н.Бестужев-Рюмин, С.Д.Шереметев, В.О.Ключевский – прямо или косвенно отвергли легенду о царствовании Гришки. Окинем беглым взглядом их аргументы.
Прежде всего поражает скудость документальных сведений, подтверждающих официальную биографию Отрепьева. Многочисленные рассказы о нем, содержащиеся в летописях и современных сказаниях, так или иначе сводятся к двум источникам: окружной грамоте патриарха Иова, с которой 14 января 1605 года он обратился к духовенству всей земли и которая является первой обнародованной биографией Отрепьева, и так называемому «Извету» или «Челобитью Варлаама», изданному правительством Василия Шуйского.
Как же складывалась жизнь Григория Отрепьева согласно этим документам?
В грамоте патриарха говорится, что в миру этого человека звали Юшка Богданов сын Отрепьев. Он принадлежал к той ветви рода Нелидовых, родоначальник которой, Данила Борисович, получил в 1497 году прозвище Отрепьева, закрепившееся за его потомками. В детстве он был отдан отцом, стрелецким сотником, в услужение боярину Михаилу Романову, то есть попал в категорию так называемых детей боярских – сыновей не очень родовитых и богатых бояр, составлявших челядь более знатных вельмож. Юноша отличался тяжелым характером и распущенностью. После того, как хозяин прогнал его за дурное поведение, отец взял сына к себе. Но Григорий и здесь не оставил своих привычек. Он несколько раз пытался убежать из дома и в конце концов оказался замешан в каком-то тяжелом преступлении, за которое ему грозило суровое наказание.
Чтобы избежать возмездия, он решил постричься в монахи в монастыре Иоанна Предтечи, что на Железном Борку в Ярославской области. Затем он перебрался в Москву – в Чудов монастырь, где показал себя искусным переписчиком, благодаря чему через два года сам патриарх Иов, посвятив его в диаконы, взял к себе на двор, для книжного письма. Однако вскоре он был уличен в распутстве, пьянстве и воровстве (в старорусском значении этого слова, то есть в государственном преступлении) и в 1593 году бежал из Москвы со своими товарищами, Варлаамом Яцким и Мисаилом Повадиным.
Некоторое время он проживал в Киеве в монастырях Никольском и Печерском во дьяконском чине, потом скинул монашеское платье, уклонился в латинскую ересь, в чернокнижие, ведовство и, по наущению короля Сигизмунда и литовских панов, стал называться царевичем Дмитрием.
Свидетелями его бегства оказались многие люди, которые дали знать о том патриарху. Первый свидетель, монах Пимен, постриженник Троице-Сергиева монастыря, сказал, что спознался с Гришкой и его товарищами Варлаамом и Мисаилом в Новгороде-Северском в Спасском монастыре и проводил их в Литву за Стародуб. Второй, чернец Венедикт, показал, что, убежав из Смоленска в Литву, жил в Киеве и там познакомился с Гришкой, проживал с ним в разных монастырях и был с ним у князя Острожского. Гришка потом ушел к запорожцам. Венедикт известил о том Печерского игумена, и тот послал к казакам монахов для поимки вора, но Гришка убежал от них к князю Адаму Вишневецкому. Третий, посадский человек Степен Иконник, рассказал, что, торгуя иконами в Киеве, видел Гришку в своей лавке, когда тот, будучи еще в дьяконском чине, приходил к нему покупать иконы.
Система доказательств, призванная уличить Отрепьева (а точнее, названого Дмитрия) в самозванстве, не очень убедительна. Свидетельские показания Пимена, Венедикта и Степана мало чего стоят: можно поверить, что они опознали Отрепьева на его пути из Москвы в Киев, но ведь они не были в литовском Брагине, где объявился названый Дмитрий, и не видели его! Как же они берутся утверждать тождество этих двух лиц? Кроме того, сам патриарх, указывая социальное положение этих людей, называет их «бродягами и ворами». Не правда ли, прекрасная характеристика для свидетелей и качества их показаний!
Далее, обратим внимание на приводимую дату бегства Григория в Литву – 1593 год. Если даже предположить, что все безобразия, которые он успел натворить в Москве, могут уложиться в первые 20 лет жизни не теряющего времени подонка, то в 1603 году, в Брагине, Отрепьев должен был предстать перед Вишневецким зрелым 30-летним мужем. Но все очевидцы, видевшие Дмитрия не только в Брагине, но и спустя два года в Москве, единодушно свидетельствуют, что это был юноша не старше 22-25 лет. При этом, насколько можно судить, во внешнем облике и умственных и нравственных качествах Дмитрия не было ничего от истаскавшегося пьяницы с монастырским образованием. Папский нунций Рангони в 1604 году описывает его так: «Хорошо сложенный молодой человек, со смуглым цветом лица, с большой бородавкой на носу в уровень с правым глазом; его белые длинные кисти рук обнаруживают благородство его происхождения. Говорит он очень смело; его походка и манеры, действительно носят какой-то величественный характер». В другом месте он пишет: «Дмитрию на вид около двадцати четырех лет, он без бороды, одарен живым умом, весьма красноречив, безупречно соблюдает внешние приличия, склонен к изучению словесных наук, чрезвычайно скромен и сдержан». Француз Маржерет, капитан на русской службе, считал, что манера Дмитрия держать себя доказывала, что он мог быть только сыном венценосца. «Его красноречие восхищало русских, - пишет он, - в нем блистало какое-то неизъяснимое величие, дотоле неизвестное русским и тем менее простому народу» (Маржерет, лично знакомый с Генрихом IV, разбирался в манерах королей). Еще один очевидец, Буссов, говорит, что руки и ноги Дмитрия выдавали его аристократическое происхождение, то есть были изящными и не ширококостными.
Кто решится отнести эти описания к человеку, о котором идет речь в грамоте патриарха? Отрепьевы никогда не принадлежали к аристократическим фамилиям и непонятно, в каких монастырях и кабаках Григорий мог набраться благородных манер. Да, он, видимо, все же некоторое время посещал вместе с патриархом царский дворец, но если Отрепьев и подучился там учтивости, то вряд ли можно допустить, что патриаршему переписчику позволили там выработать величественные манеры.
Если эти доказательства все еще не кажутся убедительными, то вот другие. Названый Дмитрий был чрезвычайно воинствен, не раз доказал свое умение владеть саблей и укрощать самых горячих лошадей. Он говорил по-польски, знал (впрочем, нетвердо) латынь и производил впечатление почти европейски образованного человека. Объяснить, откуда могли взяться все эти качества у Отрепьева, невозможно.
Интересно, что Пушкин, следуя в «Борисе Годунове» официальной версии о Самозванце, чутьем поэта гениально уловил его несхожесть с Отрепьевым. Фактически в трагедии Самозванец состоит как бы из двух человек: Гришки и Дмитрия. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить сцену в корчме на литовской границе со сценами в Самборе: другой язык, другой характер!
По всей видимости, вопрос о том, был ли Дмитрий на самом деле Григорием Отрепьевым, не очень занимал Годунова. Ему важно было лишь доказать, что самозванец является русским, с тем, чтобы на этом основании требовать его выдачи. Поэтому Борис объявил его Григорием Отрепьевым – первым попавшимся мерзавцем, который мало-мальски подходил на эту роль. Еще не зная, что появившийся в Брагине претендент на престол едва вышел из 20-летнего возраста, Годунов и Иов отнесли его выход в Литву к 1593 году, между тем как более достоверной датой следует считать 1601 или 1602 год. Впрочем, московское правительство нетвердо помнило даже дату угличского происшествия 15 мая 1591 года с царевичем Димитрием и в своих грамотах польским властям отодвигало его на несколько лет назад.
В 1605 году Годунов почти признался в своей ошибке. Его посол Постник-Огарев, прибывший в январе этого года к Сигизмунду с письмом, в котором Дмитрий все еще назывался Отрепьевым, в сейме вдруг заговорил не о Гришке, а совсем о другом человеке – сыне не то какого-то крестьянина, не то сапожника. По его словам, этот человек, носивший в России имя Дмитрий Реорович (возможно, это искаженное в польском тексте отчество Григорьевич), и называет теперь себя царевичем Дмитрием. Помимо этого неожиданного заявления, Огарев удивил сенаторов другим замечанием: мол, если самозванец и в самом деле является сыном царя Ивана, то его рождение в незаконном браке все равно лишает его права на престол. (Сторонники Дмитрия отвечали на это: брак законный, мать царевича была венчана.) Этот довод, повторенный тогда же в письме Бориса к императору Рудольфу, отлично показывает цену, которую имела в глазах Бориса версия о тождестве Отрепьева с Дмитрием.
Вообще надо сказать, что в 1605 году, несмотря на авторитет патриарха, эта версия не получила широкого распространения: ей мало верили. После обнародования грамоты с биографией Отрепьева окружение Дмитрия в Польше даже как-то оживилось, словно противник допустил важный промах. В России, где имя Отрепьева было предано анафеме, народ, по сведениям властей, говорил: «Пусть себе проклинают расстригу – царевичу до Гришки дела нет!»
Но в царствование Василия Шуйского полузабытое имя Григория Отрепьева было вновь – и теперь уже на многие столетия – связано с именем Дмитрия. Летом 1606 года, спустя месяц-другой после смерти Дмитрия, Шуйский опубликовал «Извет», якобы принадлежавший перу монаха Варлаама Яцкого, случайного спутника Отрепьева в его странствиях. Это сочинение изобиловало новыми подробностями (и новыми погрешностями) из жизни расстриги и в то же время во многом противоречило грамоте Иова. Так, согласно этому повествованию, в феврале 1602 года Гришка бежал из Москвы; за год перед этим (в 14-летнем возрасте) он принял монашество. Но затем выясняется, что между этими двумя датами, он успел два года прожить в московском Чудовом монастыре и более года прослужить у патриарха. Вот что значит спешка в писательском ремесле! Эти огрехи вызваны, конечно, стремлением омолодить Отрепьева, исправив тем самым ошибку патриаршей грамоты, но попутно сочинитель «Извета» входит в противоречие с Иовом, ничего не говоря о службе Отрепьева на дворе у Романова и торопясь надеть на него схиму.
Дальнейший рассказ не менее занимателен. Автор сообщает, что бежать из Москвы Григория вынудил донос на него патриарху о том, что он выдает себя за царевича Дмитрия. (Иов в своей грамоте ни словом не упоминает об этом важном обстоятельстве.) При этом остается неизвестным, кого Отрепьев старался уверить в своем царском происхождении; равным образом не поясняется, каким образом в его голову пришла столь безумная для москвича XVI столетия мысль. И еще одна странность: несмотря на царский приказ схватить еретика, один дьяк помогает ему скрыться; что заставило его рисковать своей головой ради самозванца, не поясняется.
Затем на сцену выступает автор повествования. В феврале 1606 года, в Москве, на Варварском крестце, он встречает некоего монаха. Это не кто иной, как Григорий Отрепьев, который, оказывается, спокойно разгуливает среди бела дня по Москве, несмотря на тяготеющее над ним обвинение в государственном преступлении. Он зовет Варлаама совершить паломничество... в Иерусалим, и легкий на подъем Варлаам, впервые видящий перед собой этого человека, с радостью соглашается, хотя минуту назад он и в мыслях не имел совершить подобное путешествие! Они договариваются встретиться на следующий день, и назавтра в условленном месте встречают еще одного монаха, Мисаила, в миру Михаила Повадина, которого Варлаам видел прежде на дворе у князя Шуйского (здесь неосторожно выдается некоторая близость автора к тому лицу, которому адресуется вся басня). Мисаил ничтоже сумняшеся присоединяется к ним.
Втроем они достигают Киева, где три недели живут в Печерском монастыре (печерский архимандрит Елисей, с которым автор забыл сговориться, впоследствии будет утверждать, что монахов было четверо), а затем через Острог добираются до Дерманского монастыря. Но здесь Григорий бежит от своих спутников в Гощу, откуда, сбросив монашескую рясу, бесследно исчезает следующей весной. После такого предательства Варлаам забывает о благочестивой цели своего паломничества и почему-то озабочен лишь тем, как вернуть беглеца в Россию. Он жалуется на него князю Острожскому и даже самому королю Сигизмунду, но слышит в ответ, что Польша свободная страна и в ней каждый волен идти, куда ему угодно. Тогда Варлаам храбро бросается в самое пекло – в Самбор, к Мнишкам, чтобы обличить самозванца. Но там его хватают и вместе с другим русским, боярским сыном Яковом Пыхачевым, преследующим ту же цель, обвиняют в злоумышлении на жизнь Дмитрия по приказу Бориса Годунова. Пыхачева казнят, а для Варлаама почему-то делают исключение и кидают в темницу. Впрочем, вскоре происходит нечто еще более невероятное: Марина Мнишек выпускает его – одного из главных обвинителей ее жениха в самозванстве! (Варлаам не замечает, что эта история, даже если она не выдумана, свидетельствует как раз о том, что в Самборе не видели никакой опасности в отождествлении Отрепьева с Дмитрием, будучи совершенно убеждены, что это два разных лица.)
После воцарения самозванца обличительный пыл Варлаама почему-то пропадает и только воцарение Василия Шуйского вновь развязывает ему язык.
Таково вкратце содержание этого романа, за достоверность которого до сих пор готовы поручиться многие историки. Например, Скрынников, один из крупнейших советских специалистов по истории Смуты, настолько заворожен совпадением маршрута путешествия Отрепьева в Литву с пунктами, названными самим Дмитрием (Острог – Гоща – Брагин), что во всех своих работах приводит этот факт в числе одного из двух (!) «неопровержимых» доказательств того, что царевичем в Польше называл себя Гришка (не приводя, впрочем, ни одного доказательства того, что спутник Отрепьева, Варлаам Яцкий, и автор «Извета» являются одним и тем же лицом). Но признать данное доказательство «неопровержимым» можно лишь в том случае, если предположить вслед за уважаемым историком, что Варлаам (или кто бы он ни был), писавший свое сочинение в 1606 году, не знал рассказов Дмитрия о своих странствиях, которые уже два года назад были известны любому мальчишке от Кракова до Москвы.
Равным образом ничего определенного не говорит в пользу кандидатуры Отрепьева на роль Дмитрия и любопытная находка, сделанная на Волыни, в Загоровской монастырской библиотеке – другое «неопровержимое» доказательство Скрынникова. Надпись на одной из книг, хранящихся там, гласит: «Пожалована князем Константином Острожским в августе 1602 года монахам Григорию, Варлааму и Мисаилу»; рядом с именем Григория сделана приписка другой рукой: «Царевичу Московскому». Почерки, которыми сделаны надпись и приписка, не принадлежат никому из известных исторических лиц того времени. И пока нам не объяснят, кто, когда и зачем вывел эти строки, считать их доказательством чего бы то ни было вряд ли будет правильным.
Но допустим, что сама надпись полностью достоверна (этого, разумеется, нельзя сказать о приписке, которая свидетельствует лишь о том, что ее автор читал или слышал манифесты Шуйского о Гришке). Тогда она, подтверждая некоторые места «Извета», опровергает его главную мысль – тождество Отрепьева с Дмитрием. Ведь известно, что князь Острожский отрицал свое знакомство с претендентом на русский престол. Почему? Потому что брагинский царевич, видимо, совсем не походил на одного из монахов, которым князь подарил книгу.
Итак, Дмитрий, по всей вероятности, не был Григорием Отрепьевым. А вывод, следующий из этого утверждения сделал уже в XIX веке историк Бестужев-Рюмин: если Дмитрий не был Отрепьевым, то он мог быть только настоящим царевичем.
А вот об этом разговор отдельный.
источник
☼
ЗАРАБОТАЙ СО МНОЙ
РУСЬ БЫЛИННАЯ
РАТНАЯ ДОБЛЕСТЬ РУССОВ
|
|
03.11.2011
|
Комментарии
| |
|
|